Архим. Павел Груздев
САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
Центр Православной культуры святителя Димитрия Ростовского
Издательство "Китеж"
Ярославль
2002
О нем мемуар Соколовой.
По благословению Высокопреосвященнейшего Михея,
Архиепископа Ярославского и Ростовского
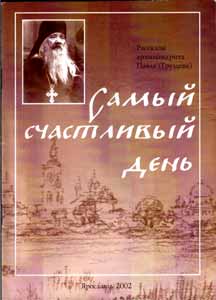
Имя ярославского старца архимандрита Павла (Груздева) почитаемо
на Валааме и на Афоне, в Москве и Петербурге, на Украине и в Сибири. При жизни
отец Павел был прославлен многими дарами. Господь слышал его молитвы и откликался
на них. Могучую жизнь прожил этот праведник с Богом и с народом, разделив все
испытания, выпавшие на долю России в 20-м веке. Малая родина Павла Груздева -
уездный город Молога - был затоплен водами Рыбинского рукотворного моря, и мологский
изгнанник стал переселенцем, а потом и лагерником, отбыв срок наказания за веру
одиннадцать лет. И снова вернулся он на мологскую землю — точнее, то, что осталось
от нее после затопления - и служил здесь священником в селе Верхне-Никульском
почти тридцать лет и три года...
Среди всех даров архимандрита Павла замечателен его дар рассказчика:
он словно исцелял собеседника живительной силой своего слова. Все, кто общался
с батюшкой, кто слушал его рассказы, вспоминают в один голос, что уезжали от отца
Павла "как на крыльях", настолько радостно преображался их внутренний мир. Надеемся,
что и читатели батюшкиных рассказов почувствуют ту радосшую духовную силу в общении
с ярославским старцем. Как говорил отец Павел: "Я умру - от вас не уйду".
РОДОСЛОВНАЯ ПАВЛА ГРУЗДЕВА
Родословная Павла Груздева уходит корнями в старинную мологскую
землю. "Когда-то в деревне Большой Борок проживал крестьянин Терентий (Тереха),
- пишет отец Павел в своих дневниковых тетрадях. - У этого Терентия был сын Алексей,
у которого была кривая супруга Фекла Карповна". Среди шести детей Терентия (Груздевы
в старые годы звались Терехины) был сын Алексей Терентьич, а у него - второй сын
по имени Иван Алексеевич Груздев - это и есть дед о. Павла. "Старичок среднего
роста, небольшая русая борода, проницательные карие глаза и неизменная трубка-носогрейка,
волосы подстрижены под горшок, старенькие русские сапоги, плохонькой пиджак и
старый картуз и с утра до ночи работа да забота", - вспоминает отец Павел. Семья
десять человек, а "земли один надел, на дворе корова, лошади не бывало". "Супруга
его была Марья Фоминишна, уроженка Петрова, из деревни Новое Верховье -плотная,
физически развитая женщина, от природы процентов на 40 глухая, с бородавкой на
левой щеке, - описывает о. Павел свою бабку. - Лето в поле, зима - пряла, ткала,
внучат подымала <...>. У этих тружеников было шесть человек детей". Первая
дочь Груздевых Ольга, окончив один класс начальной школы, ушла в Мологский Афанасьевский
женский монастырь, где жила сестра бабушки по отцовской линии монахиня Евстолия
и еще жила одна тетка - инокиня Елена. Сын Александр родился в 1888 году. "По
окончании трех классов церковно-приходской школы, - пишет
о. Павел, - был направлен родителями в Рыбинск в лавку к некому Адреянову, но
непосильный детский труд и бесчеловечное зверское обращение
хозяев вынудили его пешком бежать в Мологу и, не заходя домой, выпросился в мальчики
к Иевлеву Александру Павлычу, который имел мясную лавочку, где и работал до революции,
вернее, до 1914 года". Сквозь толщу времени мерцает старинная Молога, словно таинственный
Китеж сквозь воды Светлояра. Молога, Молога, и твои золотые предания покоятся
ныне на дне! Затоплены дома и улицы, церкви и кладбища, кресты и колокольни. Где
твой юродивый Лешинька, приходивший в лавочку к Иевлевым и просивший у хозяйки:
"Маша, Маша, дай пятачок", получив который, тут же кому-либо отдавал или запихивал
в какую-нибудь щель? Видимо, от отца - Александра Ивановича - сохранилась у Павла
Груздева память об одном случае. "Тятя с хозяином любили осенью ходить на охоту
к Святу Озеру за утками, их допреж там была тьма-тьмущая. Однажды в дождливый
осенний день со множеством убитой дичи наши охотники заблудились. Стемнялось,
а дождь как из ведра. Куда идти? В какой стороне Молога? Никакой ориентировки.
Но вдруг они увидели вдали как бы огненный столб, восходящий от земли, простирающийся
в небо; и они, обрадованные, пошли на этот ориентир. Через два-три часа Александр
Павлыч (Иевлев) и тятя уперлися в кладбищенскую ограду г.Мологи. Перебравшись
через ограду, они увидали свежую могилу, на которой на коленях с воздетыми к небу
руками молился Лешинька, от него исходило это дивное сияние. Александр Павлыч
упал перед ним на колени со словами: "Леша, помолись за нас", на что тот ответил:
"Сам молись и никому не говори, что ты меня здесь видал". Полное имя Лешиньки
- Алексей Клюкин, он был похоронен в Мологском Афанасьевском монастыре у летнего
собора, у алтаря с правой стороны.
В 1910 году Александр Иваныч женился на девице из деревни Новоселки,
Солнцевой Александре Николаевне. Первенцем был сын Павел, в 1912г. родилась дочь
Ольга, в 1914 г. - дочь Мария, а 19 июля 1914 года началась война.. "Осталась
Александра Николаевна с малым детям да со старым старикам, а жить надо и жили,
а как? да так же, как и все, - читаем в дневниках о. Павла. - Помню, был оброк
не плочен да штраф за дрова, что на плечах из леса носили. Вот и приговорили бабку
и маму на неделю в Боронишино, в волостное правление, в холодную, конечно же,
бабка и меня взяла с собой, и нас из Борку много набралось неплательщиков-человек
15-20. Заперли всех в темную комнату, сидите, преступники. А среди нас были глубокие
старики Тарас Михеич да Анна Кузина, обое близорукие. Вот и пошли они оправиться
в уборную, а там горела керосиновая лампа, они ее как-то и разбили. Керосин вспыхнул,
маломало и они-то не сгорели. А на утро пришел старшина Сорокоумов и всех нас
выгнал. Это было 29 августа 1915-16 года".
Отец воевал на фронте, а семья бедствовала, по миру ходили. Мать
Павлушу, как старшего, посылала побираться, по деревне куски собирать. А было
ему годика четыре. И убежал он в Афанасьевский монастырь к тетке.
МОНАСТЫРСКИЙ МЕД
Вот пришли они к игумений на поклон. "В ноги бух! - рассказывал
батюшка. - Игумения и говорит: "Так что делать, Павелко! Цыплят много, куриц,
пусть смотрит, чтобы воронье не растащило".
Так началось для о. Павла монастырское послушание.
"Цыплят пас, потом коров пас, лошадей, - вспоминал он. - Пятьсот
десятин земли! Ой, как жили-то...
Потом - нечего ему, то есть мне, Павелке, - к алтарю надо приучать!
Стал к алтарю ходить, кадила подавать, кадила раздувать..."
"Шибко в монастыре работали," - вспоминал батюшка. В поле, на
огороде, на скотном дворе, сеяли, убирали, косили, копали - постоянно на свежем
воздухе. А люди в основном молодые, все время хотелось есть. И вот Павелка придумал,
как накормить сестер-послушниц медом:
"Было мне в ту пору годков пять-семь, не больше. Только-только
стали мед у нас качать на монастырской пасеке, и я тут как тут на монастырской
лошадке мед свожу. Распоряжалась медом в монастыре только игумения, она и учет
меду вела. Ладно!
А медку-то хочется, да и сестры-то хотят, а благословения нет.
Не велено нам меду-то есть.
- Матушка игумения, медку-то благословите!
- Не положено, Павлуша, - отвечает она.
- Ладно, - соглашаюсь,- как хотите, воля ваша.
А сам бегом на скотный двор бегу, в голове план зреет, как меду-то
раздобыть. Хватаю крысу из капкана, которая побольше, и несу к леднику, где мед
хранят. Погоди, зараза, и мигом с нею туда.
Ветошью-то крысу медом вымазал, несу:
- Матушка! Матушка! — а с крысы мед течет, я ее за хвост держу:
- Вот в бочонке утонула!
А крику, что ты! Крыса сроду меда не видела и бочонка того. А
для всех мед осквернен, все в ужасе - крыса утонула!
- Тащи, Павелка, тот бочонок и вон его! - игумения велит. - Только-только
чтобы его близко в монастыре не было!
Хорошо! Мне то и надо. Давай, вези! Увез, где-то там припрятал...
Пришло воскресенье, идти на исповедь... А исповедывал протоиерей
о. Николай (Розин), умер он давно и похоронен в Мологе.
- Отец Николай, батюшка! - начинаю я со слезами на глазах. -
Стыдно! Так, мол, и так, бочонок меду-то я стащил. Но не о себе думал, сестер
пожалел, хотел угостить...
- Да, Павлуша, грех твой велик, но то, что попечение имел не
только о себе, но и о сестрах, вину твою смягчает... - А потом тихо так он мне
в самое ушко-то шепчет: "Но если мне, сынок, бидончик один, другой нацедишь...
Господь, видя твою доброту и раскаяние, грех простит! Только, смотри, никому о
том ни слова, а я о тебе, дитя мое, помолюсь".
Да Господи, да Милостивый, Слава Тебе! Легко-то как! Бегу, бидончик
меду-то протоиерею несу. В дом ему снес, попадье отдал. Слава Тебе, Господи! Гора
с плеч".
Эта история с монастырским медом стала уже народной легендой,
потому и рассказывают ее по-разному. Одни говорят, что была не крыса, а мышь.
Другие добавляют, что эту мышь поймал монастырский кот Зефир, а в просторечии
- Зифа. Третьи уверяют, что Павелка пообещал игумений помолиться "о скверноядших",
когда станет священником... Но мы передаем эту историю так, как рассказал ее сам
батюшка, и ни слова больше!
"...TO ЗВЕЗДА МЛАДЕНЦА И ЦАРЯ ЦАРЕЙ"
Очень любил Павелка ходить на коляды в Рождество и Святки. По
монастырю ходили так - сначала к игумений, потом к казначее, потом к благочинной
и ко всем по порядку. И он тоже заходит к игумений: "Можно поколядовать?"
- Матушка игумения! - кричит келейница. - Тут Павелко пришел,
славить будет.
"Это я-то Павелко, на ту пору годов шести, - рассказывал батюшка.
- В келью к ней не пускают, потому в прихожке стою. Слышу голос игумений из кельи:
"Ладно, пусть славит!" Тут я начинаю:
Славите, славите,
сами про то знаете.
Я Павелко маленькой,
славить не умею,
а просить не смею.
Матушка игумения,
дай пятак!
Не дашь пятак, уйду и так.
Чуть погодя слышу голос игумений: "Онисья! - келейница у ней
была. - Дай ему цолковый!"
Ух-х! А цолковый, знаешь какой? Не знаешь! Серебряный и две головы
на нем - государь Император Николай Александрович и царь Михаил Феодорович, были
тогда такие юбилейные серебряные рубли. Слава Богу! А дальше я к казначее иду
- процедура целая такая... Казначеей была мать Поплия. Даст мне полтинничек, еще
и конфет впридачу".
- Ох, и хитер ты был, отец Павел, - перебивает батюшку его келейница
Марья Петровна. - Нет-таки к простой монахине идти! А все к игуменье, казначее!
- У простых самих того.., сама знаешь, Маруся, чего! Цолковый
у них, хоть и целый день ори, не выклянчишь, - отшучивается отец Павел и продолжает
свой рассказ:
"От казначеи - к благочинной. Сидит за столом в белом апостольнике,
чай пьет.
- Матушка Севастиана! - кричит ей келейница. - Павелко пришел,
хочет Христа славить.
Она, головы не повернув, говорит: "Там на столе пятачок лежит,
дай ему, да пусть уходит".
- Уходи, - всполошилась келейница. - Недовольна матушка благочинная.
И уже больше для благочинной, чем для меня, возмущается: "Ишь,
сколько грязи наносил, насляндал! Половички какие чистые да стиранные! Уходи!"
Развернулся, не стал и пятачок у ней брать. Ладно, думаю... Вот
помрешь, по тебе тужить не буду! И в колокол звонить не пойду, так и знай, матушка
Севастиана! А слезы-то у меня по щекам рекой... Обидели".
Звонить в колокол - тоже было послушание маленького Павелки.
Как говорил батюшка: "Мой трудовой доход в монастыре". "Умирает, к примеру, мантийная
монахиня, - рассказывает отец Павел. - Тут же приходит гробовая - Фаина была такая,
косоротая — опрятывать тело усопшей, и мы идем с нею на колокольню. Час ночи или
час дня, ветер, снег или дождь с грозой: "Павелко, пойдем". Забираемся мы на колокольню,
ночью звезды и луна близко, а днем земля далеко-далеко, Молога как на ладошке
лежит, вся, словно ожерельями, обвита реками вокруг. Летом - бурлаки по Мологе
от Волги баржи тащут, зимой - все белым-бело, весной в паводок русла рек не видать,
лишь бескрайнее море... Гробовая Фаина обвязывает мантейкой язык колокола, того,
что на 390 пудов. Потянула Фаина мантейкой за язык — бу-у-м-м, и я с нею — бу-м-м!
По монастырскому обычаю, на каком бы кто послушании ни был, все должны положить
три поклона за новопреставленную. Корову доишь или на лошади скачешь, князь ты
или поп - клади три поклона земных! Вся Русь так жила - в страхе перед Богом ...
И вот эта мантейка висит на языке колокола до сорокового дня,
там уже от дождя, снега или ветра одни лоскутки останутся. В сороковой день соберут
эти лоскутки - и на могилку. Панихиду отслужат и мантейку ту в землю закопают.
Касалось это только мантийных монахинь, а всех остальных хоронили, как обычно.
А мне за то - Павелко всю ночь и день сидит на колокольне - рубль заплатят. Слава
Богу, умирали не часто".
"И Я ПАТРИАРХУ ТИХОНУ СПИНКУ ТЕР, И ОН МНЕ!"
Летом 1913 года праздновали царский юбилей в Мологе - хотя и
без личного присутствия Государя, но очень торжественно. Архиепископ Ярославский
и Ростовский Тихон, будущий Патриарх, на пароходе по Волге приплыл тогда в Мологу.
Конечно, главные празднования состоялись в Афанасьевской обители. Три годика было
Павлуше Груздеву, но дорожку в монастырь он уже хорошо знал, не раз брала его
с собой крестная - монахиня Евстолия.
Первую свою встречу со святителем Тихоном о. Павел запомнил на
всю жизнь. Владыка был ласков, всех без исключения в монастыре благословил и своей
рукой раздал памятные монеты и медальки, выпущенные в честь царского юбилея. Досталась
монетка и Павлуше Груздеву.
- Знал я святителя Тихона, знал архиепископа Агафангела и многих-многих
других, - рассказывал батюшка. - Царствие им всем Небесное. Всякий раз 18 января
старого стиля/ 31 января н. ст./, в день святителей Афанасия Великого и Кирилла,
архиепископов Александрийских, в нашу святую обитель приезжали отовсюду, в том
числе и священство: отец Григорий - иеромонах с Толги, архимандрит Иероним из
Юги, всегда гостем был настоятель Адрианова монастыря, иеромонах Сильвестр из
церкви Архангела Михаила, пять - шесть батюшек еще. Да на литию-то как выходили,
Господи! Радость, красота и умиление!
Во время ярославского восстания 1918
года, по рассказам, Патриарх Тихон жил в Толгском монастыре, но вынужден был покинуть
его, перебравшись в относительно тихую по тем временам Мологскую обитель Матушка
игумения истопила для владыки баньку, а монастырь-то женский, вот и послали восьмилетнего
Павлушу мыться вместе с Его Святейшеством
- Топят баньку-то, а игуменья и зовет “Павелко” - меня, значит,
- рассказывает батюшка - Иди со владыкой-то помойся, в баньке-то. И Патриарх Тихон
мне спину мыл, и я ему!
Владыка благословил послушника Павелку носить подрясник, своими
руками одел на Павлушу ремень и скуфейку, тем самым как бы дав ему свое святительское
благословение на монашество. И хотя монашеский постриг отец Павел принял только
в 1962 году, всю жизнь он считал себя иноком, монахом. А подрясник, скуфейку и
четки, данные ему святителем Тихоном, сохранил через все испытания.
Более двух недель, по словам о Павла, жил Патриарх Тихон в гостеприимной
Мологской обители “Пошел как-то Святейший по монастырю с осмотром, - рассказывает
батюшка, - а заодно прогуляться, воздухом подышать. Игумения с ним, рыбинский
благочинный о Александр, все звали его почему-то Юрша, может быть, потому, что
родом он был из села Юршино. Я рядом со святителем бегу, посох ему несу. Вскоре
вышли мы из ворот и оказались на огурцовом поле:
- Матушка игуменья! - обращается к настоятельнице Святейший Тихон
- Смотри, сколько у тебя огурцов!
А тут и благочинный о Александр рядом, вставил словечко:
- Сколько в монастыре огурцов, столько, значит, и дураков:
- Из них ты первым будешь! - заметил святитель
Все рассмеялись, в том числе и о.Александр, и сам Святейший.
- Отправьте огурцов на Толгу, - отдал он потом распоряжение.
Рассказывал отец Павел, как солили огурцы в бочках прямо в реке,
как ездили по грибы. Для каждого дела существовал свой обычай, свой особый ритуал.
Едут по грибы - садятся на подводу, берут с собой самовар, провизию. Старые монашки
и они, молодежь, приезжают в лес, лагерь разбивают, в центре привязывают колокол,
а точнее, колокольцо такое. Молодежь уходит в лес по грибы, тут костер горит,
пищу готовят, и кто-то в колокольцо блямкает, чтобы не заблудились, не ушли далеко.
Собирают грибы, приносят и опять в лес Старухи грибы разбирают, тут же варят.
И с детства такой отец Павел, что любил людей кормить, любил
и хозяйство вести - по-монастырски, планомерно.
КАК ПАВЕЛ ГРУЗДЕВ БЫЛ СУДЕБНЫМ ЗАСЕДАТЕЛЕМ
После революции и гражданской войны Мологский Афанасьевский монастырь
из обители иночествующих превратился в Афанасьевскую трудовую артель. Но монастырская
жизнь текла своим чередом, несмотря на все потрясения.
“Очень уж модным было тогда собрания собирать, - вспоминал о.
Павел 20-е годы в Мологе. - Приезжает из города проверяющий, или кто еще, уполномоченный,
сразу к нам:
- Где члены трудовой артели?
- Так нету, - отвечают ему.
- А где они? - спрашивает.
- Да на всенощной.
- Чего там делают?
- Молятся...
- Так ведь собрание намечено!
- Того не знаем.
- Ну, вы у меня домолитесь! - пригрозит он”.
Обвиненные в уклонении “от участия в общественном строительстве”,
сестры обители, как могли, старались участвовать в новой советской жизни, выполнять
все постановления.
Отец Павел рассказывал: “Как-то раз приходят, говорят нам:
- Есть Постановление! Необходимо выбрать судебных заседателей
из числа членов Афанасьевской трудовой артели. От монастыря, значит.
- Хорошо, - соглашаемся мы. - А кого выбирать в заседатели?
- А кого хотите, того и выбирайте
Выбрали меня, Груздева Павла Александровича. Надо еще кого-то.
Кого? Ольгу-председательницу, у нее одной были башмаки на высоких каблуках. Без
того в заседатели не ходи. Мне-то ладно, кроме подрясника и лаптей, ничего. Но
как избранному заседателю купили рубаху хорошую, сумасшедшую рубаху с отложным
воротником. Ой-й! зараза, и галстук! Неделю примеривал, как на суд завязать?
Словом, стал я судебным заседателем. Идем, город Молога, Народный
суд. На суде объявляют: “Судебные заседатели Самойлова и Груздев, займите свои
места”. Первым вошел в зал заседания я, за мной Ольга. Батюшки! Родные мои, красным
сукном стол покрыт, графин с водой... Я перекрестился. Ольга Самойлова меня в
бок толкает и шепчет мне на ухо:
- Ты, зараза, хоть не крестися, ведь заседатель!
- Так ведь не бес, - ответил я ей.
Хорошо! Объявляют приговор, слушаю я, слушаю... Нет, не то! Погодите,
погодите! Не помню, судили за что - украл он что-то, муки ли пуд или еще что?
“Нет, - говорю, - слушай-ка, ты, парень - судья! Ведь пойми, его нужда заставила
украсть-то. Может, дети у него голодные!”
Да во всю-то мощь говорю, без оглядки. Смотрят все на меня и
тихо так стало...
Пишут отношение в монастырь: “Больше дураков в заседатели не
присылайте”. Меня, значит”, - уточнил батюшка и засмеялся.
"ГОЛОДЕН БЫЛ, А ТЫ НАКОРМИЛ МЕНЯ"
13 мая 1941 года Павел Александрович Груздев был арестован по
делу архиепископа Варлаама Ряшенцева.
Лагпункт, где шесть лет отбывал срок о.Павел, находился по адресу:
Кировская область, Кайский район, п/о Волосница. Вятские исправительно-трудовые
лагеря занимались заготовкою дров для Пермской железной дороги, и заключенному
№ 513 -этим номером называл себя о. Павел - поручено было обслуживать железнодорожную
ветку, по которой из тайги вывозился лес с лесоповала. Как обходчику узкоколейки,
ему разрешалось передвигаться по тайге самостоятельно, без конвоира за спиной,
он мог в любое время пройти в зону и выйти из нее, завернуть по дороге в вольный
поселок. Бесконвойность - преимущество, которым очень дорожили в зоне. А время
было военное, то самое, о котором говорят, что из семи лагерных эпох самая страшная
- война: "Кто в войну не сидел, тот и лагеря не отведал". С начала войны был урезан
и без того до невозможности скудный лагерный паек, ухудшались с каждым годом и
сами продукты: хлеб - сырая черная глина, "черняшка"; овощи заменялись кормовою
репою, свекольной ботвой, всяким мусором; вместо круп - вика, отруби.
Многих людей спас о. Павел в лагере от голодной смерти. В то
время как бригаду заключенных водили к месту работы два стрелка, утром и вечером
- фамилии стрелков были Жемчугов да Пухтяев, о. Павел запомнил - зека № 513 имел
пропуск на свободный выход и вход в зону: "Хочу в лес иду, а хочу и вдоль леса...
Но чаще в лес - плетеный из веточек пестель в руки беру и - за ягодами. Сперва
землянику брал, потом морошку и бруснику, а грибов-то! Ладно. Ребята, лес-то рядом!
Господи Милостивый, слава Тебе!"
Что удавалось пронести через проходную в лагерь, о. Павел менял
в санчасти на хлеб, кормил ослабших от голода товарищей по бараку. А барак у них
был - сплошь 58-я статья: монахи, немцы с Поволжья сидели, интеллигенция. Встретил
о. Павел в лагерях старосту из тутаевского собора, тот умер у него на руках.
На зиму делал запасы. Рубил рябину и складывал в стога. Их потом
засыплет снегом и бери всю зиму. Солил грибы в самодельных ямах: выкопает, обмажет
изнутри глиной, накидает туда хворосту, разожжет костер. Яма становится как глиняный
кувшин или большая чаша. Навалит полную яму грибов, соли где-то на путях раздобудет,
пересыплет солью грибы, потом придавит сучьями. "И вот, - говорит, - несу через
проходную - ведро охранникам, два ведра в лагерь".
Однажды в тайге встретил о. Павел медведя: "Ем малину, а кто-то
толкается. Посмотрел - медведь. Не помню, как до лагеря добежал". В другой раз
чуть было не пристрелили его спящего, приняв за беглого зека. "Набрал я как-то
ягод целый пестель, - рассказывал батюшка. - Тогда земляники много было, вот я
ее с горой и набрал. А при этом уставший - то ли с ночи шел, то ли еще чего-то
- не помню теперь. Шел-шел к лагерю, да и прилег на траву. Документы мои, как
положено, со мною, а документы какие? Пропуск на работу. Прилег, значит, и сплю
- да так сладко, так хорошо в лесу на лоне природы, а
пестель с этой земляникой у меня в головах стоит. Вдруг слышу, кто-то в меня шишками
бросает - прямо в лицо мне. Перекрестился я, открыл глаза, смотрю - стрелок!
- А-а! Сбежал?..
- Гражданин начальник, нет, не сбежал, - отвечаю.
- Документ имеешь? - спрашивает.
- Имею, гражданин начальник, - говорю ему и достаю документ.
Он у меня всегда в рубашке лежал в зашитом кармане, вот здесь - на груди у сердца.
Поглядел, поглядел он документ и так, и этак.
- Ладно, - говорит, - свободен!
- Гражданин начальник, вот земляники-то поешьте, - предлагаю
я ему.
- Ладно, давай, - согласился стрелок.
Положил винтовку на траву... Родные мои, земляника-то с трудом
была набрана для больных в лагерь, а он у меня половину-то и съел. Ну да Бог с
ним!"
"БОЛЕН БЫЛ, А ВЫ ПОСЕТИЛИ МЕНЯ"
В медсанчасти, где менял Павел Груздев ягоды на хлеб, работали
два доктора, оба из Прибалтики - доктор Берне, латыш, и доктор Чаманс. Дадут им
указание, разнарядку в санчасть: "Завтра в лагере ударный рабочий день" - Рождество,
к примеру, или Пасха Христова. В эти светлые христианские праздники заключенных
заставляли работать еще больше - "перевоспитывали" ударным трудом. И предупреждают
докторов, таких же заключенных: "Чтобы по всему лагпункту более пятнадцати человек
не освобождать!" И если врач не выполнит разнарядку, он будет наказан - могут
и срок добавить. А доктор Берне освободит от работы тридцать человек и список
тот несет на вахту...
"Слышно: "Кто?!" - рассказывал отец Павел. - "Мать-перемать,
кто, фашистские морды, список писал?"
Вызывают его, доктора нашего, согнут за то, как положено:
"Завтра сам за свое самоуправство пойдешь три нормы давать!"
- Ладно! Хорошо!
Так скажу вам, родные мои робята. Я не понимаю в красоте телесной
человеческой, в душевной-то я понимаю, а тут я понял! Вышел он на вахту с рабочими,
со всеми вышел... Ой, красавец, сумасшедший красавец и без шапки! Стоит без головного
убора и с пилой... Думаю про себя: "Матерь Божия, да Владычице, Скоропослушнице!
Пошли ему всего за его простоту и терпение!" Конечно, мы его берегли и в тот день
увели от работы. Соорудили ему костер, его рядом посадили. Стрелка подкупили:
"На вот тебе! Да молчи ты, зараза!"
Так доктор и сидел у костра, грелся и не работал. Если он жив,
дай ему, Господи, доброго здоровья, а если помер - Господи! Пошли ему Царствие
Небесное, по завету Твоему: "Болен был, а вы посетили Меня!"
КАК ОТЕЦ ПАВЕЛ ИЗ ПЕТЛИ ЧЕЛОВЕКА ВЫНУЛ
Всех заключенных по 58-й статье на зоне звали "фашистами" - это
меткое клеймо придумали блатные и одобрило лагерное начальство. Что может быть
позорнее, когда идет война с немецко-фашистскими захватчиками? "Фашистская морда,
фашистская сволочь", - самое расхожее лагерное обращение.
Один раз о. Павел вытащил из петли немца - такого же заключенного
- "фашиста", как и он сам. С начала войны много их, обрусевших немцев с Поволжья
и других регионов, попало за колючую проволоку - вся вина их состояла в том, что
они были немецкой национальности. Эта история рассказана от начала и до конца
самим отцом Павлом.
"Осень на дворе! Дождик сумасшедший, ночь. А на мою ответственность
- восемь километров железнодорожного пути по лагерным тропам. Я путеобходчиком
был, потому и пропуск имел свободный, доверяли мне. За путь отвечаю! Я вас, родные
мои, в этом вопросе и проконсультирую, и простажирую, только слушайте. Ведь за
путь отвечать дело не простое, чуть что - строго спросят.
Начальником нашей дороги был Григорий Васильевич Копыл. Как же
он меня любил-то! А знаете, за что? Я ему и грибов самых лучших носил, и ягод
всяких - словом, в изобилии получал он от меня даров леса.
Ладно! Осень и ночь, и дождь сумасшедший.
- Павло! Как дорога-то на участке? - А был Григорий Васильевич
Копыл тоже заключенный, как и я, но начальником.
- Гражданин начальник, - отвечаю ему, - дорога в полном порядке,
все смотрел и проверял. Пломбировал, - шутка, конечно.
- Ладно, Павлуха, садися со мной на машину.
Машина - старенький резервный паровозик, вы все знаете, что такое
резервный, он ходил между лагпунктами. Когда завал расчистить, когда срочно бригаду
укладчиков доставить, - вспомогательный паровоз. Ладно! Поехали!
- Смотри, Павло, за дорогу ты головой отвечаешь! - предупредил
Копыл, когда поезд тронулся.
- Отвечаю, гражданин начальник, - соглашаюсь я. Машина паровая,
сумасшедшая, челюсти уздой не стянешь, авось! Едем. Хорошо! Немного проехали,
вдруг толчок! Что за толчок такой? Паровоз при этом как бросит...
- А-а! Так ты меня проводишь? На путях накладки разошлись!
Накладки-то скреплены, где в стыке рельсы соединяются.
- Да Григорий Васильевич, проверял я дорогу-то!
- Ну ладно, верю тебе, - буркнул недовольный Копыл. Дальше едем.
Проехали еще метров триста, ну пятьсот... опять удар! Опять паровоз бросило!
- С завтрашнего дня две недели тебе пайка не восемьсот, как прежде,
граммов, а триста хлеба, - строго сказал Копыл.
- Ну, ваше дело, вы начальник...
Проехали восемь километров до лагпункта. Все сходят, идут в лагпункт,
отдыхать после работы. А мне? Нет, родные мои, пойду туда посмотреть, в чем дело.
Не уследил за дорогой, зараза! А бежать восемь километров по дождю, да и ночь
к тому. Но что ж - тебе дано, твоя ответственность...
Бегу... Хорошо! Вот чувствую, сейчас самое место, где толчок
был.
Гляжу - матушки! - лошадь в кювете лежит, обе ноги ей отрезало...
Ой! Что ты сделаешь? За хвост - и подальше ее от насыпи сволок. Дальше бегу. А
реву-то, крику! Ночь! Я уж до костей промок, а начхать. На помощь всех святых
призываю, но больше всего: "Преподобие отче Варлаамие! Я у тебя четыре года жил,
угодник Божий! Я твою раку, около мощей-то, всегда обтирал! Помоги мне, отче Варлаамие,
и мои грехи-те оботри, омой твоими молитвами к Господу нашему, Спасителю Иисусу
Христу!"
Но при том дальше все по дороге бегу... Вижу - еще лошадь лежит,
Господи! Тоже зарезанная - паровозом тем, на котором мы ехали. Ой-й! Делать-то
что? Но миловал Господь, не растерялся я и эту стащил подальше от дороги. Вдруг
слышу - какой-то храп, стон вроде человеческий. А рядом с тем местом шпало-резка
была - дорогу-то когда делали, мотор там поставили, крышу соорудили. Что-то вроде
сарая такого, бревна на шпалы в нем резали.
Бегом туда. Машинально вбежал в эту шпалорезку... Родные мои!
Гляжу, а мужик, лагерный пастух, и висит! Повесился, зараза! Он лошадей тех пас,
немец. Какие тогда были немцы? Арестованный он, может, из Поволжья, не знаю...
Да Матушка Пречистая! Да всех святых зову и Михаила Клопского,
Господи! Всех-всех призвал, до последней капли. Ну, что делать? Ножички нам носить
запрещено было, потому не носил. Если найдут, могли и расстрелять. Там за пустяк
расстреливали. Зубами бы узел развязать на веревке, так зубы у меня тогда все
выбиты были. Один-единственный на память оставил мне следователь Спасский в ярославской
тюрьме.
Как-то я эту веревку пальцами путал-путал, - словом, распутал.
Рухнул он на пол, Господи! Я к нему, перевернул его на спину, руки-ноги растянул.
Щупаю пульс - нету. Ничего в нем не булькает, ничего не хлюпает. Да что делать-то?
Да Матушка-Скоропослушница! Опять всех Святых на помощь, да и Илью Пророка. Ты
на небе-то, не знаю как и просить, как ублажить тебя? Помоги нам!
Нет, родные мои, был я уже без ума. Умер. Мертвой лежит! Василие
Великий, Григорие Богослове да Иоанне Златоусте... кого только не звал!
Вдруг слышу! Господи! Тут у него, у самого горла, кохнуло. Ой,
матушки, зафункционировало... Пока так изредка: кох-кох-кох. Потом чаще. Обложил
его травой моерой, было это уже в августе-сентябре, а сам бегом в зону, опять
восемь верст. Дождь прошел, а я сухонькой, пар из меня валит. Прибегаю на вахту:
"Давай, давай скорей! Дрезину, сейчас же мне дрезину! Человеку в лесу, на перегоне,
плохо!"
Стрелки на вахте, глядя на меня, говорят: "Ну, домолился, святоша!
Голова у него того!" Думают, с ума я сошел. Вид у меня был такой или еще что?
Не знаю. Фамилии моей они не говорят, а как номер мой называют, то сразу - "святоша".
К примеру: "513-й совсем домолился, святоша-то!"
- Пусть говорят, - думаю. - Ладно.
Побежал, нашел начальника санчасти, был у нас такой Ферий Павел
Эдуардович. Не знаю, какой он нации, но фамилия его была Ферий. Меня он уважал
- нет, не за подачки - а за просто так уважал. К нему обращаюсь:
- Гражданин начальник, так, мол, и так!
- Ладно, давай бегом на дрезину, поехали, - говорит он мне. Приехали
к шпалорезке, а этот там лежит без памяти, но пульс у него функционирует. Ему
тут же чего-то кольнули, чего-то дали и привезли в зону. Его в санчасть, а я в
барак ушел.
Месяц или полтора спустя приходит мне повестка: "Номер такой-то,
просим немедленно явиться в суд на восьмой лагпункт". Приехал я на восьмой лагпункт,
как указано в повестке. Идет суд, а я в суде свидетель. Не меня судят, а паренька
того, пастуха из шпалорезки, у которого лошадей паровозом ночью зарезало.
Как оказалось потом, выяснилось на следствии, он их просто проспал.
Ходил-ходил, пас-пас, да и уснул, а они уж сами под паровоз забрели. И вот собрался
суд, и его судят.
- Ну вы, 513-й! - это меня, значит. - Свидетель! Как вы нам на
то ответите? Ведь вы знаете, понимаете, наверное. Страна переживает критическое
положение. Немцы рвутся, а он подрывает нашу оборону. Согласен с этим, да, 513-й?
"Он" - это тот пастух, что повесился.
Встаю, меня ведь спрашивают, как свидетеля, отвечаю:
- Граждане судьи, я только правду скажу. Так, мол, и так Я его
вынул из петли. Не от радости он полез в нее, петлю-то. У него, видно, жена есть,
"фрау", значит, и детки, наверное, тоже есть. Сами подумайте, каково ему было
в петлю лезть? Но у страха глаза велики. Потому, граждане судьи, я не подпишу
и не поддерживаю выставленного вами ему обвинения. Ну испугался он, согласен.
Уснул - так ночь и дождь. Может, устал, а тут еще паровоз... Нет, не согласен
- Так и ты фашист!
- Так, наверное Ваша воля.
И знаете, родные мои, дали ему только условно. Я, правда, не
знаю, что такое условно. Но ему эту возможность предоставили. И вот потом, бывало,
еще сплю на нарах-то, а он получит свою пайку хлеба восемьсот граммов, и триста
мне под подушку пихнет
Вот так жили, родные мои".
ЛЕСНАЯ ЛИТУРГИЯ
Разные людские потоки в разные годы лились в лагеря - то раскулаченные,
то космополиты, то срубленная очередным ударом топора партийная верхушка, то научно-творческая
интеллигенция, идейно не угодившая Хозяину - но всегда и в любые годы был единый
общий поток верующих - "какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами.
Как от пулемета падают среди них - и следующие заступают, и опять идут. Твердость,
не виданная в XX веке!" Это строки из "Архипелага Гулаг".
Словно в первые христианские века, когда богослужение совершалось
зачастую под открытым небом, православные молились ныне в лесу, в горах, в пустыне
и у моря.
В уральской тайге служили Литургию и заключенные Вятских исправительно-трудовых
лагерей.
Были там два епископа, несколько архимандритов, игумены, иеромонахи
и просто монахи. А сколько было в лагере верующих женщин, которых всех окрестили
"монашками", смешав в одну кучу и безграмотных крестьянок, и игумений различных
монастырей. По словам отца Павла, "была там целая епархия!" Когда удавалось договориться
с начальником второй части, ведавшей пропусками, "лагерная епархия" выходила в
лес и начинала богослужение на лесной поляне. Для причастной чаши готовили сок
из различных ягод, черники, земляники, ежевики, брусники - что Бог пошлет, престолом
был пень, полотенце служило как сакос, из консервной банки делали кадило. И архиерей,
облаченный в арестантское тряпье, - "разделиша ризы Моя
себе и об одежде Моей меташа жребий... "-предстоял лесному престолу
как Господню, ему помогали все молящиеся.
"Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите", -
пел хор заключенных на лесной поляне... Как молились все, как плакали - не
от горя, а от радости молитвенной...
При последнем богослужении (что-то случилось в лагпункте, кого-то
куда-то переводили) молния ударила в пень, служивший престолом - чтобы не сквернили
его потом. Он исчез, а на его месте появилась воронка, полная чистой прозрачной
воды. Охранник, видевший все своими глазами, побелел от страха, говорит: "Ну,
вы все здесь святые!"
Были случаи, когда вместе с заключенными причащались в лесу и
некоторые из охранников-стрелков.
Шла Великая Отечественная война, начавшаяся в воскресенье 22
июня 1941 года - в День Всех Святых, в земле Российской просиявших, и помешавшая
осуществиться государственному плану "безбожной пятилетки", по которому в России
не должно было остаться ни одной церкви. Что помогло России выстоять и сохранить
православную веру - разве не молитвы и праведная кровь миллионов заключенных -
лучших христиан России?
Высокие сосны, трава на поляне, престол херувимский, небо...
Причастная зековская чаша с соком из лесных ягод:
"...Верую, Господи, что сие есть самое пречистое Тело Твое
и сия есть честная кровь Твоя... иже за ны и за многих проливаемая во оставление
грехов..."
САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
Много написано в XX веке об ужасах и страданиях лагерей. Архимандрит
Павел уже незадолго до смерти, в 90-х годах нашего (уже минувшего) столетья, признался:
"Родные мои, был у меня в жизни самый счастливый день. Вот послушайте.
Пригнали как-то к нам в лагеря девчонок. Все они молодые-молодые,
наверное, и двадцати им не было. Их "бендеровками" называли. Среди них одна красавица
- коса у ней до пят и лет ей от силы шестнадцать. И вот она-то так ревит, так
плачет... "Как же горько ей, - думаю, - девочке этой, что так убивается она, так
плачет".
Подошел ближе, спрашиваю... А собралось тут заключенных человек
двести, и наших лагерных, и тех, что вместе с этапом. "А отчего девушка-то так
ревит?" Кто-то мне отвечает, из ихних же, вновь прибывших: "Трое суток ехали,
нам хлеба дорогой не давали, какой-то у них перерасход был. Вот приехали, нам
за все сразу и уплатили, хлеб выдали. А она поберегла, не ела - день, что ли,
какой постный был у нее. А паек-то этот, который за три дня - и украли, выхватили
как-то у нее. Вот трое суток она и не ела, теперь поделились бы с нею, но и у
нас хлеба нету, уже все съели".
А у меня в бараке была заначка - не заначка, а паек на сегодняшний
день - буханка хлеба! Бегом я в барак... А получал восемьсот граммов хлеба как
рабочий. Какой хлеб, сами понимаете, но все же хлеб. Этот хлеб беру и бегом назад.
Несу этот хлеб девочке и даю, а она мне: "Hi, не треба! Я честi своеi за хлiб
не продаю!" И хлеб-то не взяла, батюшки! Милые мои, родные! Да Господи! Не знаю,
какая честь такая, что человек за нее умереть готов? До того и не знал, а в тот
день узнал, что это девичьей честью называется!
Сунул я этот кусок ей под мышку и бегом за зону, в лес! В кусты
забрался, встал на коленки... и такие были слезы у меня радостные, нет, не горькие.
А думаю, Господь и скажет:
- Голоден был, а ты, Павлуха, накормил Меня.
- Когда, Господи?
- Да вот тую девку-то бендеровку. То ты Меня накормил! Вот это
был и есть самый счастливый день в моей жизни, а прожил я уж немало".
"ГОСПОДИ, И НАС ПРОСТИ, ЧТО МЫ АРЕСТАНТЫ!"
По делу архиепископа Варлаама Ряшенцева, который был воспреемником
митрополита Ярославского Агафангела, Павел Груздев арестовывался дважды. Повторный
срок он получил в 1949 году, как тогда говорили - стал "повторником". Из Ярославля
повезли арестантов в Москву, в Бутырки, оттуда - в Самару, в пересыльную тюрьму.
В самарской тюрьме отец Павел вместе с другими заключенными встретил
Пасху 1950 года. В этот день - воскресенье - выгнали их на прогулку в тюремный
двор, выстроили и водят по кругу. Кому-то из тюремного начальства взбрело в голову:
"Эй, попы, спойте чего-нибудь!"
"А владыка - помяни его Господи! - рассказывал батюшка, - говорит
нам: "Отцы и братие! Сегодня Христос воскресе!" И запел: "Христос воскресе
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав... " Да
помяни, Господи, того праведного стрелка - ни в кого не выстрелил. Идем, поем:
"Воскресения день, просветимся лю-дие! Пасха, Господня Пасха! От смерти бо
к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас приведе... "
Из Самары повезли арестантов неизвестно куда. В вагонах решетки,
хлеба на дорогу не дали. "Ой, да соловецкие чудотворцы! Да куды же вы, праведные,
нас отправляете?" Едут сутки, двое, трое .. Из дальнего окна горы видать. И снова
- "с вещам!" Вышли все, собралися, стали на поверку. Выкрикивают вновь прибывших
по алфавиту
- А! Антонов Иван Васильевич! Заходи.
Номер 1 зашел.
- Августов... Заходит.
- Б!.. В!.. Г!.. Заходи! В зону, в зону! Гривнев, Годунов, Грибов...
Донской, Данилов...
- А Груздева что нет? - спрашивает о. Павел.
- Да нету, - отвечают ему.
"Как нет? - думает. - Я у них самый страшный фашист. Не вызывают
меня! Видно, сейчас еще хуже будет".
Всех назвали, никого не осталось, только два старика да он, Павел
Груздев.
- Паренек,ты арестант?
- Арестант.
- И мы арестанты. Ты фашист?
- Фашист.
- И мы фашисты.
"Слава Тебе Господи! - облегченно вздохнул о. Павел и пояснил.
- Свои, значит, нас фашистами звали".
- Дак паренек, - просят его старики, - ты ступай к этому, который
начальник, скажи, что забыли троих!
- Гражданин начальник! Мы тоже из этой партии три арестанта.
- Не знаем! Отходи!
Сидят старики с Павлушей, ждут. Вдруг из будки проходной выходит
охранник, несет пакет:
- Ну, кто из вас поумнее-то будет? Старики говорят:
- Так вот парню отдайте документы.
- На, держи. Вон, видишь, километра за три, дом на горе и флаг?
Идите туда, вам там скажут, чего делать.
"Идем, - вспоминал о. Павел. - Господи, глядим: "моншасы да шандасы"
- не по-русски все кругом-то. Я говорю: "Ребята, нас привезли не в Россию!" Пришли
в этот дом - комендатура, на трех языках написано. Заходим, баба кыргызуха моет
пол.
- Здравствуйте.
- Чего надо?
- Да ты не кричи на нас! Вот документы настоящие.
- Э! - скорчилася вся. - Давай уходим! А то звоним будем милиция,
стреляю! Ах ты, зараза, еще убьют!
- Завтра в 9-10 часов приходим, работа начнем!
Пошли. А куды идти-то, батюшко? Куцы идти-то? Спрашиваем тюрьму.
Да грязные-то! Вшей не было. Обстриженные-то! Господи, да Матерь Божия, да соловецкие
чудотворцы! Куды же мы попали? Какой же это город? Везде не по-русски написано.
"Вон тюрьма", - говорят. Подходим к тюрьме, звонок нажимаю:
- Передачи не передаем, поздно!
- Милый, нас возьмите! Мы арестанты!
- Убежали?
- Вот вам документы.
- Это в пересылку. Не принимают. Чужие.
Приходим опять в пересылку. Уж вечер. Солнце село, надо ночлег
искать. А кто нас пустит?
- Ребята, нас там нигде не берут!
- А у нас смена прошла, давайте уходите, а то стрелять будем!
"Что ж, дедушки, пойдемте". А че ж делать? В город-от боимся
идти, по загороду не помню куда шли напрямик. Река шумит какая-то. Водички попить
бы, да сил уж нет от голода. Нашел какую-то яму, бурьян - бух в бурьян. Тут и
упал, тут и уснул. А бумажку-то эту, документы, под голову подложил, сохранил
как-то. Утром просыпаюсь. Первое дело, что мне странно показалось - небо надо
мной, синее небо. Тюрьма ведь все, пересылка... А тут небо! Думаю, чокнулся. Грызу
себе руку - нет, еще не чокнулся. Господи! Сотвори день сей днем милосердия Твоего!
Вылезаю из ямы. Один старик молится, а второй рубашку стирает
в реке. "Ой, сынок, жив!" "Жив, отцы, жив."
Умылись в реке - река Ишим. Солнышко только взошло. Начали молитвы
читать:
"Воссташе от сна, припадаем Ти, Блаже, и ангельскую песнь
вопием ти, сильне. Свят, Свят, Свят ecu Боже, Богородицею помилуй нас.
От одра и сна воздвигл мя ecu Господи, ум мой просвети и сердце..."
Прочитали молитвы те, слышим: бом!.. бом!.. бом!.. Церковь где-то! Служба
есть! Один старик говорит. "Дак вона, видишь, на горизонте?" Километра полтора
от нашего ночлега. "Пойдемте в церковь!"
А уж мы не то чтобы нищие были, а какая есть последняя ступенька
нищих - вот мы были на этой ступеньке. А что делать - только бы нам причаститься!
Иуда бы покаялся, Господь бы и его простил. Господи, и нас прости, что мы арестанты!
А батюшке-то охота за исповедь отдать. У меня не было ни копейки. Какой-то старик
увидал нас, дает три рубля: "Поди разменяй!" Всем по полтиннику, а на остальное
свечки поставили Спасителю и Царице Небесной. Исповедались, причастились - да
хоть куда веди нас, хоть расстреляй, никто не страшен! Слава Тебе Господи!"
СЛУЧАЙ В СОВХОЗЕ ЗУЕВКА
Так началась ссыльная жизнь Павла Груздева в городе Петропавловске,
где в первый же день причастились они со стариками-монахами в соборной церкви
Петра и Павла. В Казахстан заключенный Груздев был отправлен "на вечное поселение".
В областной строительной конторе поставили Груздева на камнедробилку. "Кувалду
дали, - вспоминал батюшка. - Утром-то работа начинается с восьми, а я в шесть
часов приду, да и набью норму, еще и перевыполню". Как-то раз командировали их,
административно-ссыльных, в поселок Зуевку на уборочную. Совхоз Зуевка находился
в тридцатисорока верстах от Петропавловска и будто бы там что-то случилось- без
присмотра осталась скотина, птица домашняя, урожай не убран. Но правды никто не
говорит.
"Привезли нас на машинах в Зуевку, - рассказывал о. Павел. -А
там что делается-то! Родные мои! Коровы ревут, верблюды орут, а в селе никого,
будто все село вымерло. Кому кричать, кого искать - не знаем. Думали, думали,
решили к председателю в управление идти. Приходим к нему., ой-й-ой! Скамейка посреди
комнаты стоит, а на скамейке гроб. Маттушки! А в нем председатель лежит, головой
крутит и на нас искоса поглядывает Я своим говорю: "Стой!" - а потом ему: "Эй,
ты чего?" А он мне из гроба в ответ: "Я новопреставленный раб Божий Василий"
А у них там в Зуевке такой отец Афанасий был - он давно-давно
туда попал, чуть ли не до революции. И вот этот-то Афанасий всех их и вразумил:
"Завтра пришествие будет, конец света!" И всех в монахи постриг и в гробы уложил...
Все село! Они и ряс каких-то нашили из марли да и чего попало. А сам Афанасий
на колокольню залез и ждал пришествия. Ой! Детишки маленькие, бабы - и все постриженные,
все в гробах по избам лежат. Коров доить надо, у коров вымя сперло. "За что скотина-то
страдать должна? - спрашиваю у одной бабы. - Ты кто такая?" "Монахиня Евникия",
- отвечает мне. Господи! Ну что ты сделаешь?
Ночевали мы там, работали день-другой как положено, потом нас
домой увезли. Афанасия того в больницу отправили. Епископу в Алма-Ату написали
- Иосиф был, кажется, - он это Афанасиево пострижение признал незаконным и всех
"монахов" расстригли. Платья, юбки свои надели и работали они как надо.
...Но семена в землю были брошены и дали свои всходы. Детишки
маленькие-то бегают: "Мамка, мамка! А отец Лука мне морду разбил!" Пяти годков-то
отцу Луке нету. Или еще: "Мамка, мамка, мать Фаина у меня булку забрала!" Вот
какой был случай в совхозе Зуевка".
УМЕР "ВЕЧНО ЖИВОЙ"
Так день за днем, месяц за месяцем наступил и 53-й год. "Прихожу
с работы домой, -вспоминал о. Павел, - дедушка мне и говорит:
- Сынок, Сталин умер!
- Деда, молчи. Он вечно живой. И тебя, и меня посадят.
Завтра утром мне снова на работу, а по радио передают, предупреждают,
что когда похороны Сталина будут, "гудки как загудят все! Работу прекратить -
стойте и замрите там, где вас гудок застал, на минуту-две..." А со мною в ссылке
был Иван из Ветлуги, фамилия его Лебедев. Ой, какой хороший мужик, на все руки
мастер! Ну все, что в руки ни возьмет - все этими руками сделает. Мы с Иваном
на верблюдах тогда работали. У него верблюд, у меня верблюд. И вот на этих верблюдах-то
мы с ним по степи едем. Вдруг гудки загудели! Верблюда остановить надо, а Иван
его шибче лупит, ругает. И бежит верблюд по степи, и не знает, что Сталин умер!"
Так проводили Сталина в последний путь рясофорный Павел Груздев
из затопленной Мологи и мастер на все руки из старинного городка Ветлуга Иван
Лебедев. "А уж после похорон Сталина молчим - никого не видали, ничего не слыхали".
И вот снова ночь, примерно час ночи. Стучатся в калитку:
- Груздев здесь?
Что ж, ночные посетители - дело привычное. У отца Павла мешок
с сухарями всегда наготове. Выходит:
- Собирайся, дружок! Поедешь с нами!
"Дедушко ревит, бабушка ревит... - Сынок! Они за столько лет
уже привыкли ко мне, - рассказывал о. Павел. - Ну, думаю, дождался! На Соловки
повезут! Все мне на Соловки хотелось.. Нет! Не на Соловки. Сухари взял, четки
взял - словом, все взял. Господи! Поехали. Гляжу, нет, не к вокзалу везут, а в
комендатуру. Захожу. Здороваться нам не ведено, здороваются только с настоящими
людьми, а мы - арестанты, "фашистская морда". А что поделаешь? Ладно. Зашел, руки вот так, за спиной, как положено
- за одиннадцать годов-то пообвык, опыта набрался. Перед ними стоишь, не то чтобы
говорить - дышать, мигать глазами и то боишься.
- Товарищ Груздев!
Ну, думаю, конец света. Все "фашистская морда", а тут товарищ.
- Садитесь, свободно, - меня, значит, приглашают.
- Хорошо, спасибо, но я постою, гражданин начальник.
- Нет, присаживайтесь!
- У меня штаны грязные, испачкаю.
- Садитесь!
Все-таки сел я, как сказали.
- Товарищ Груздев, за что отбываете срок наказания?
- Так ведь фашист, наверное? - отвечаю.
- Нет, вы не увиливайте, серьезно говорите.
- Сроду не знаю. Вот у вас документы лежат на меня, вам виднее.
- Так по ошибке, - говорит он.
Слава Тебе Господи! Теперь на Соловки свезут, наверное, когда
по ошибке-то... Уж очень мне на Соловки хотелось, святым местам поклониться. Но
дальше слушаю.
- Товарищ Груздев, вот вам справка, вы пострадали невинно. Культ
личности. Завтра со справкой идите в милицию. На основании этой бумаги вам выдадут
паспорт. А мы вас тайно предупреждаем... Если кто назовет вас фашистом или еще
каким-либо подобным образом - вы нам, товарищ Груздев, доложите! Мы того гражданина
за это привлечем. Вот вам наш адрес.
Ой, ой, ой! - замахал руками. - Не буду, не буду, гражданин начальник,
упаси Господь, не буду. Не умею я, родной...
...Господи! А как стал говорить-то, лампочка надо мной белая-белая,
потом зеленая, голубая, в конце концов стала розовой... Очнулся спустя некоторое
время, на носу вата. Чувствую, за руку меня держат и кто-то говорит: "В себя пришел!"
Что-то они делали мне, укол какой, еще что... Слава Богу, поднялся,
извиняться стал. "Ой да извините, ой да простите". Только, думаю, отпустите. Ведь
арестант, неловко мне...
- Ладно, ладно, - успокоил начальник. - А теперь идите!
- А одиннадцать годков?
- Нету, товарищ Груздев, нету!
"Лишь укол мне сунули на память ниже талии... Потопал я". Два дня понадобилось,
чтобы оформить паспорт - "он и теперь еще у меня живой лежит", как говорил о.
Павел. На третий день вышел Груздев на работу. А бригадиром у них был такой товарищ
Миронец - православных на дух не принимал и сам по себе был очень злобного нрава.
Девчонки из бригады про него пели: "Не ходи на тот конец, изобьет тя Миронец!"
- Ага! - кричит товарищ Миронец, только-только завидев Груздева.
- Шлялся, с монашками молился!
Да матом на чем свет кроет.
- Поповская твоя морда! Ты опять за свое! Там у себя на ярославщине
вредил, гад, диверсии устраивал, и здесь вредишь, фашист проклятый! План нам срываешь,
саботажник!
- Нет, гражданин начальник, не шлялся, - отвечает Груздев спокойно.
- Вот документ оправдательный, а мне к директору Облстройконторы надо, извините.
- Зачем тебе, дураку, директор? - удивился товарищ Миронец.
- Там в бумажке все указано.
- Прочитал бригадир бумагу:
- Павлуша!..
- Вот тебе и Павлуша, - думает Груздев.
Разговор в кабинете директора получился
и вовсе обескураживающим.
- А! Товарищ Груздев, дорогой! Садитесь, не стойте, вот вам и
стул приготовлен, - как лучшего гостя встретил директор "товарища Груздева", уже
осведомленный о его делах. - Знаю, Павел Александрович, все знаю. Ошибочка у нас
вышла.
Пока директор рассыпается мелким бисером, молчит Груздев, ничего
не говорит. А что скажешь?
- Мы вот через день-другой жилой дом сдаем, - продолжает директор
Облстройконторы, - там есть и лепта вашего стахановского труда. Дом новый, многоквартирный.
В нем и для вас, дорогой Павел Александрович, квартира имеется. Мы к вам за эти
годы присмотрелись, видим, что вы - честный и порядочный гражданин. Вот только
беда, что верующий, но на это можно закрыть глаза.
- А что ж я делать буду в доме вашем-то? - удивляется Груздев
странным словам директора, а сам думает: "К чему все это клонится?"
- Жениться вам нужно, товарищ Груздев, семьей обзавестись, детьми,
и работать! - довольный своим предложением, радостно заключает директор.
- Как жениться? - оторопел Павел. - Ведь я монах!
- Ну и что! Ты семью заведи, деток, и оставайся себе монахом...
Кто же против того? Только живи и трудись!
- Нет, гражданин начальник, спасибо вам за отцовское участие,
но не могу, -поблагодарил Павел Груздев директора и, расстроенный, вернулся к
себе на улицу Крупскую. Не отпускают его с производства! Как ни говорите, а домой
охота... Тятя с мамой, сестренки - Олька со шпаной, Таня, Лешка, Санька Фокан...
Пишет Павлуша письмо домой: "Тятя! Мама! Я уже не арестант. Это было по ошибке.
Я не фашист, а русский человек".
"Сынок! - отвечает ему Александр Иванович Груздев. - У нас в
семье вора сроду не было, не было и разбойника. И ты не вор и не разбойник. Приезжай,
сынок, похорони наши косточки".
Снова идет Павел Груздев к директору Облстройконторы:
- Гражданин начальник, к тяте бы с мамой съездить, ведь старые
уже, помереть могут, не дождавшись!
- Павлуша, чтобы поехать, вызов тебе нужен! - отвечает начальник.
- А без вызова не имею права тебя отпустить.
Пишет Павел Груздев в Тутаев родным - так, мол, и так, без вызова
не пускают. А сестра его Татьяна, в замужестве Юдина, всю жизнь работала фельдшером-акушером.
Дежурила она как-то раз ночью в больнице. Господь ей и внушил: открыла она машинально
ящик письменного стола, а там печать и бланки больничные. Отправляет телеграмму:
"Северный Казахстан, город Петропавловск, Облпромстройконтора, начальнику. Просим
срочно выслать Павла Груздева, его мать при смерти после тяжелых родов, родила
двойню".
А матери уж семьдесят годков! Павлуша как узнал, думает: "С ума
я сошел! Или Танька чего-то мудрит!" Но вызывают его к начальству:
- Товарищ Груздев, собирайтесь срочно в дорогу! Все про вас знаем.
С одной стороны, рады, а с другой стороны, скорбим. Может, вам чем подсобить?
Может, няню нужно?
- Нет, гражданин начальник, - отвечает Павел. - Крепко вас благодарю,
но поеду без няни.
- Как хотите, - согласился директор.
"Сейчас и пошутить можно, - вспоминал батюшка этот случай. -
А тогда мне было не до смеху. На таком веку - покрутишься, и на спине, и на боку!"
"И ПОЛЗЕТ ПО ГРЯДКЕ КОЛОРАДСКИЙ ЖУК"
Столько всяких людей и событий повидал отец Павел за годы своих
лагерных странствий, что стал он как бы кладезь неисчерпаемый, - иной раз диву
даешься, чего с ним ни случалось! Батюшка и сам говорил, что весь его духовный
опыт - из лагерей: "Одиннадцать годков копил!" И когда стал архимандрит Павел
прославленным старцем, многие замечали, что его духовное руководство, его молитвы
- это что-то особенное, чему нет примера в житиях былых времен, это наша жизнь,
современная Русь святая...
А чудеса происходили - иногда так буднично, у огородной грядки.
Об одном таком случае рассказал работник МВД, официальный представитель закона.
"Однажды мы поехали к отцу Павлу—яркий солнечный день, август.
Село Верхне-Никульское от трассы расположено в км 1,5, и мы поехали дорогой, которую
местные называют БАМ, там более-менее сухо, и через картофельные поля выезжаешь,
минуя магазин, к сторожке о. Павла, т.е. делаешь как бы круг. Я, будучи за рулем,
обращал внимание на качество дороги, на то, что вокруг — т.е. помнил больше, чем
мои пассажиры. И вот, двигаясь через так называемый БАМ, я обратил внимание, что
картофельные поля осыпаны колорадским жуком — все красно, как виноград. Настолько
много, что я даже подумал, что можно выращивать колорадских жуков и варить из
них суп-харчо. И с таким игривым настроением приехал к о. Павлу. Нас приняли как
дорогих гостей. И вот в застолье, в разговоре — как картошка? как лук? в деревне
всегда говорят о сельском хозяйстве — зашла речь о засильи колорадского жука.
И отец Павел говорит: "А у меня нет колорадского жука". У него было два участка
картошки — между сторожкой и кладбищем, 10x10, и уже в церковной ограде — как
бы мини-монастырь. Но я-то прекрасно видел, что кругом колорадские жуки — даже
у соседки напротив. И вдруг: "У меня нет". Я как оперуполномоченный — ха-ха! —
засомневался. За столом уже покушали все, никто не слушал другого, я думаю: "Нет,
сейчас я найду колорадских жуков. Не может такого быть! Конечно, он врет!" И я
вышел — светло было, августовские сумерки — посмотреть между сторожкой и кладбищем
колорадских жуков, найду несколько и уличу! Пришел, начал на карачках между рядами
картошки ползать. Смотрю — ни одной личинки, ни одного жука! Не может быть! Кругом
красно, а здесь... Даже если до нашего приезда были на участке колорадские жуки,
там должны быть проеденные дыры на ботве. Я облазал все — ничего нет! Ну, не может
такого быть, это неестественно! Думаю — на втором участке всяко есть. Я, будучи
опером, т.е. человеком, который всегда во всем сомневается, ищет врагов и знает,
что враги есть, — думаю, я найду! Ни-че-го!
Пришел и говорю: "Батюшка, я вот сейчас на той делянке картофельной
был, на этой был — действительно ни одного не только колорадского жука или личинки,
но вообще признаков того, что они были". Отец Павел как само собой разумеющееся
говорит: "Да ты зря и ходил. Я молитву знаю". А я опять про себя думаю: "Хм, молитву!
Чего он такого говорит! Мало ли какая молитва!" Да, такой вот я Фома Неверующий
был, хотя ни на одном листе картофельном не нашел даже дырки от гнуса того. Я
был посрамлен. А ведь жуки колорадские прямо мигрировали, они ползли..."
Отец Павел настолько любил стихи и песни, что на любой случай
была припасена у него поэтическая притча или шуточный стишок, а если нет, то он
сочинял сам. Где-то через месяц после "милицейской проверки" отец Павел сочинил
песню про колорадского жука:
Вот цветет картошка, зеленеет лук.
И ползет на грядку колорадский жук.
Он ползет, не зная ничего о том,
Что его поймает Володька-агроном.
Он его поймает, в сельсовет снесет.
В баночку посадит, спиртиком зальет.
Отцвела картошка, пожелтел уж лук.
В баночке балдеет колорадский жук.
"ДА ВЫЗДОРОВЕЕТ ТВОЯ ДАШКА!"
"Велика была его молитва, — говорят об отце Павле. — Велико его
благословение. Истинные чудеса".
"На самой службе он стоял словно какой-то столп духовный, — вспоминают
о батюшке. — Молился всей душой, как гигант, этот маленький ростом человек, и
все присутствовали как на крыльях на его молитве. Такая она была — из самого сердца.
Голос громкий, сильный. Иногда, когда совершит таинство причастия, он просил Господа
по-простому, как своего отца: "Господи, помоги там Сережке, что-то с семьей..."
Прямо у престола — и этому помоги, и этому... Во время молитвы всех перечислял
на память, а память у него была, конечно, превосходная".
"Родилась у нас Дашенька, внучка моя, — рассказывает одна женщина.
— А дочь, когда была беременна, на Успенский пост отмечала свой день рождения
— с пьянками, с гулянками. Я ей говорю: "Побойся Бога, ведь ты же беременна".
И когда родился ребенок, определили у него шумы в сердце, очень серьезно — на
дыхательном клапане дырка. И девочка задыхалась. Еще днем туда-сюда, она плачет,
а ночами вообще задыхается. Врачи сказали, что если доживет она до двух с половиной
лет, будем делать операцию в Москве в институте. Раньше нельзя. И вот я к отцу
Павлу все и бегала: "Батюшка, помолись!" А он ничего не говорил. Вот приду, скажу
— и ничего не говорит. Прожила Даша 2,5 года. Присылают нам вызов на операцию.
Бегу к батюшке. "Батюшка, что делать? Вызов на операцию пришел, ехать или не ехать?
А он говорит: "Причасти и езжайте". Вот они поехали. Они там в больнице, а я плачу,
да все к батюшке бегаю: "Батюшка, помолись!" А потом он мне так сердито говорит:
"Да выздоровеет твоя Дашка!" И слава Богу, вот — Дашка его молитвами выздоровела".
"Господь слышал молитву о. Павла быстрее, чем других, — вспоминает
один священник. — Кто приедет к нему, у кого что болит — батюшка постучит так
запросто по спине или потреплет за ухо: "Ну ладно, все, будешь здоров, не беспокойся"
А сам-то пойдет в алтарь и молится за человека. Господь услышит его молитву и
поможет этому человеку. Конечно, явно я не могу сказать- вот хромал, подошел к
о. Павлу и сразу запрыгал. Не всегда это явно. Человек скорбел-скорбел, а помолился
у о Павла, исповедался, причастился, пообщался, попросил его молитв, так все постепенно
и отлегло. Пройдет неделя, а он уже здоров". "Молитва везде действует, хотя
не всегда чудодействует, " — записано в тетрадях о. Павла. "На молитву
надо вставать поспешно, как на пожар, а наипаче монахам". "Господи! Молитвами
праведников помилуй грешников".
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПОСЛУШНИКОМ
Очень много духовенства окормлялось у о. Павла, и с годами все
больше и больше, так что в Верхне-Никульском образовалась своя "кузница кадров",
или "Академия дураков", как шутил о. Павел. И это была настоящая духовная Академия,
по сравнению с которой меркли Академии столичные. Духовные уроки архимандрита
Павла были просты и запоминались на всю жизнь
- "Как-то раз я задумался, мог бы я быть таким послушником, чтобы
беспрекословно выполнять все послушания, — рассказывает батюшкин воспитанник,
священник. - Ну а что, наверное, смог бы! Что скажет батюшка, то я бы и делал.
Приезжаю к нему - а он, как вы знаете, частенько на мысли отвечал действием или
каким-нибудь рассказом. Он меня, как обычно, сажает за стол, тут же Марья начинает
что-то разогревать. Он приносит щей, наливает. Щи были удивительно невкусные.
Из какого-то концентрата - а я только что причастился - и сверху сало плавает.
И огромная тарелка. Я с большим трудом съел Он. "Давай, давай-ка еще!" И несется
с остатком в кастрюле - вылил мне все - ешь, доедай! Я думал, меня сейчас
стошнит. И я исповедал собственными устами: "Такого послушания, батюшка, я выполнить
не могу!" Так он меня обличил.
Отец Павел умел дать почувствовать человеку духовное состояние
- радость, смирение... "Однажды накануне "Достойной" - было много духовенства
у него - он мне говорит: "Батюшка, ты сегодня будешь ризничий!" - вспоминает один
из священников. - "Вот эта риза - самая красивая, надень, и другим выдашь". И,
наверно, все-таки какое-то тщеславие у меня было:"Вот, какая риза красивая!" И
буквально через несколько минут - отец Павел был дома, а я в церкви, он как-то
почувствовал мое состояние - летит - "Ну-ка, снимай ризу!" И отец Аркадий из Москвы
приехал, к нам заходит "Отдай отцу Аркадию!" Меня как молнией с головы до пят
прошибло - я так смирился. И в этом состоянии чувствовал себя как на небесах -
в каком-то благоговении, в радостном присутствии чего-то важного, т.е. он дал
мне понять, что такое смирение. Я надел самую старенькую ризу, но был самый счастливый
в эту службу".
|



